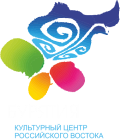фото: Надя Охин
фото: Надя Охин
Сегодня публикуем интервью с главным режиссером театра кукол им. С.В.Образцова – Борисом Анатольевичем Константиновым. Изначально разговор задумывался как интервью о лаборатории, но получилось другое. Разговор о стихиях, Байкале, профессии кукольника и задаче театра – оживлять неживое.
– Почему вы решили обратиться к «поэзии» стихий?
Я заметил, что в каждом из моих спектаклей присутствует та или иная стихия. Земля, вода, воздух, огонь – не фон в спектакле, не просто, когда что-то происходит на фоне воды. Стихия существует как персонаж. Вода гремучая, вода стоячая у Чингиза Айтматова (речь идет о спектакле - «Пегий пес, бегущий краем моря» – прим.авт.). Борьба огня и воды в «Синей птице», вода и огонь, творящие пар в этом же спектакле. Этот пар стал для меня новой сценой, как мир, в котором жили неродившиеся дети. Это все театр, это все немного бутафория. И я подумал, что каждому из кукольников, кто сегодня соберется на нашей лаборатории, когда-то придется участвовать в спектакле, когда стихия как выразительное средство, как партнер, как персонаж. Это, наверное, самое первое, можно сказать педагогическое. Во-вторых, само место продиктовало. Сам Байкал. Для меня он является местом силы.
Еще одна причина – подарить ребятам некую свободу, вывести их за пределы сценической коробки. Театр наш, кукольный, как бы это странно не звучало, бутафорский – мы всё делаем. А здесь хотелось поймать за хвост настоящий ветер, нужно было только придумать, что будет опираться на воздух – так появились воздушные змеи. Огонь. Мы имеем право разжечь костер, и быть рядом с ним. Вода. Байкал рядом. Не просто вода, а святая вода, наполненная энергией, жизнью. Я наблюдаю за своей дочерью Ией, которая приболела, но она идет купаться, и второй день прекрасно себя чувствует.
Хотелось наполнить ребят энергией творчества. Глупо было бы, если бы мы говорили огонь – это солнце, огонь, который мы разожгли, тоже является огнем, искра во взгляде твоем – тоже огонь. Пусть восприятие стихий будет шире. И свободу мысли по отношению к той или иной фактуре, так через призму театра я буду называть стихии, участникам подарить. Ребятам никто не ставил пластические сцены с борьбой огня и воды, это их, их проявление физического: я – вода, он – огонь, и мы столкнулись. Но важно, что никто друг друга не убил, они вместе – вода и огонь – переродились в нечто третье. Эмоциональный опыт свободы, хулиганства, думать чуть шире или, наоборот, не думать – это хотелось дать ребятам.
Порой «не думать» тоже хорошо для актера. Наш актер много думает, а мне хочется, чтобы он бросался эмоционально, ногами. Когда я ребятам даю задание, они начинают говорить-говорить, и только вдруг я слышу тихую реплику: «А, может, ногами проверим?». Это редко бывает. Пока мы поговорим, время пробы, репетиции уже закончилось, и зовут на обед. Разговоры сделали, а действие физическое не произвели.
Константин Бальмонт «Поэзия стихий». У меня так случается, что, когда я начинаю о чем-то думать, ко мне приходят знаки и всякие символы. Поэма Бальмонта стала таким материалом. Когда я ставил «Тишину. Посвящение Эдит Пиаф», прилетел воробей. Я пил кофе на открытой веранде в кафе, думал, как решить историю об Эдит, и на стол присел воробей. Я ему: «кыш», а он «тык-тык-тык», прыгает, не улетает. У меня была книжка с собой об Эдит, я знал уже, что ее псевдоним – «пиаф» с парижского диалекта французского означает «воробушек». И тогда я решил, что историю об Эдит будут рассказывать воробьи.
Кроме того, Байкал, энергии вокруг него зиждутся на эпосе, легендах. Это здорово для кукольника, чтобы он не ждал пьесы от какого-то драматурга. Для меня кукольник – самостоятельный автор. Почему я дал задание ребятам к финалу лаборатории подарить друг другу бусы, кулоны – милую ерунду на память, чтобы они сделали что-то своими руками, чтобы не было: «Ой, а я не умею». Это не так, все мы всё умеем, просто говорим сами себе: «Нет». Мне кажется, слово «нет» за неделю не звучало совсем, почему я такой счастливый.
Грустно с позиции режиссера, когда ты, может быть, не так жестко определил правила игры, наметил их штрихами и отдал партнеру своему – актеру, а он не понимает, не ловит, не слышит... В нашу первую встречу, мы полдня просидели на сцене и только говорили. Ребята рассказывали, что они прочитали из прозы, поэзии, японской поэзии, вообще в художественном мире о стихиях. Мы долго говорили, потом я спросил: «Что для тебя огонь, если я добавлю слово «жизнь»?». Они ответили: «смерть». Тогда я понял, что мне с ними будет интересно, потому что они сразу говорят о контрасте, о том, что, если родился, то придет время умереть. Вода дает жизнь, недостаток воды вызывает жажду. Земля сырая, в которую мы уходим после смерти, и земля, из которой вырастает что-то новое. Воздух может сбить меня ураганом, и я исчезну, а может дать мне, задыхающемуся, глоток кислорода. Опять смерть и жизнь. Ребята легко откликнулись на эту тему, после обеда мы расстались, я дал им час, и они этюд с огнем и водой, робко, но цельно, сами принесли. Мне хотелось, чтобы работа над этюдами была самостоятельной, чтобы ребята, попав в зону отдыха, четко понимали, что за этим отдыхом скрывается большой труд, его не видно, но он внутренне есть: обгоревшие ноги, насморки… Мог бы любой сказать: «Я простыл, я долго ходил босиком, мне нужно лечь и принять лекарство», но этого никто не сказал.
Я хотел ответить на вопрос и наговорил дополнительно всякого. Почему стихии понятно, они мощные для театра вещи. Если на сцене мы сумеем создать иллюзию огня, бури, воды, воздуха, тогда зритель будет обманут. И там, где-то, в центре Петербурга или Москвы, Рязани, Улан-Удэ, он попадет в северное море, где гибнут люди, бушуют страсти и зарождается новая жизнь.
– Получается, свобода была основным принципом работы с актерами?
Именно. В репертуарном театре есть тенденция, когда актеру говорят: «Сделай это, это и это». И у актера не остается пространства свободы, когда он режиссер роли. Театр кукол очень близок к танцу, пластическому рисунку, даже в кукле существует набор ее движений. Всё это является мертвым, а сверхзадача нашей профессии – «оживление» неживого. «Оживить» возможно, только в свободе, не обязательно физической, скорее, во внутренней свободе, подходу к той или иной теме. И я благодарен ребятам за то, что они эту свободу приняли, как ветер, и полетели.
– С актерским подходом – свободой связан момент, что ребята сначала работали живым планом и позже приступили к работе с куклой…
Да, мы даже спрятали куклы и не показывали их ребятам, чтобы не случилось момента: «А вот такие у нас будут куколки». В работе с куклой у нас не было задачи сделать танчик, наоборот, есть задача уйти от традиционного «потрясти куклой», чтобы не было ни секунды этого желания у актеров. Я говорил ребятам, что Виктор делает куклы из веточек и камешков, и они будут близкие к окружающей нас флоре и фауне. Наступил момент, не специальный «вот сегодня мы начнем работать с куклой», неожиданный. Трогательно, с уважением они все подошли к кукле, не схватили, не грубо понесли ее.
Единственное, что некоторые ребята, у которых были мотивация, желание, приходили к Виктору вечерами и подвязывали ниточки кукол, кто имел понимание, что это такое – подвязать марионетку. Например, Олег из Иркутска, он сам пробует делать марионетки, и Виктору было приятно, что у него такой грамотный подмастерье. Я наблюдал за ними и получал огромное удовольствие за тем, как рождалась кукла. Виктор ее сделал, а мальчик подвязывает ее, дарит ей вертикальные нити, которые придут к руке кукольника и уже от его руки что-то случится.
 фото: Надя Охин
фото: Надя Охин
– Почему вы решили работать с марионеткой?
Виктор любит марионеток. И его прерогатива, любовь к марионетке передалась ребятам. Хотелось оторвать куклу от актера, дать ей свободу, что она нами управляет, а не мы ей. Поэтому в первые дни мы пробовали снимать так, чтобы не было рядом с куклой человека. Марионетка, сделанная из палок и камней, дала ребятам свободу, знание, что они могут сами выйти в лес, насобирать корешков, включить образное мышление, сложить все ветки и получится собственная любимая кукла.
Читаешь Шекспира или Омар Хаяма, у них есть идея о том, что Бог наверху, мы все его марионетки. Марионетка – кукла наиболее подобная человеку. А тут на берегу Байкала, рядом с лесом случилось, что куклы из палок и камней – сама природа, они не сделаны из природного материала, они природные существа. Получилось, что куклы ушли дальше, чем сами люди к дочеловеческой пра-пра-памяти мира. И я не могу сказать, что мы сидели с Виктором и заранее думали об этом. Нет, все случается само – по бусинке, раз, раз.
– Почему не было цели сделать спектакль?
Потому что будет абсолютная ложь, никто в жизни за три дня спектакли не создает. Это не честно по отношению к спектаклю как к некой форме, которую потом увидит зритель. На лаборатории ценнее процесс, не результат. Поэтому не спектакль, а эскиз. Интересны первые подходы к кукле, первые приносы, трогания, как касания во время первой влюбленности. Первое соприкосновение, но никак не спектакль.
– Поэтому, наверное, у меня возникла ассоциация с «пещными» действами, что-то магическое…
Вертепные действа, колядки. Да, какой-то ритуал, он основа. Я в своих спектаклях стараюсь всегда использовать энергию ритуала, она мне кажется неподдельной. Это непонятно рационально, но существует в другом понимании. Порой мне говорят: «Это не будет понятно ребенку». Я отвечаю: «Мне кажется, что вы ошибаетесь, ребенку это как раз будет понятно, это вам непонятно, потому что вы выросли, закрылись. У вас сторож стоит на страже всего, что немного непонятно, а ребенок всегда додумает, придумает».
– Почему вы решили снимать видео как один из результатов лаборатории?
Я понимаю, что любая лаборатория является кодой, аккордом, эмоционально завершенным продуктом. И я понимал, что мы все-таки работаем в пространстве турбазы: здесь забор, там дом, тут волейбольная сетка, машина, здесь какой-то человек. А хотелось в чистую природу. Тогда мы вышли на косу, на то место, где ближе Байкал, ветер, огонь, и там поснимали, чтобы у нас в памяти был эмоциональный след соединения со стихиями.
– Чувствуете ли вы изменение в ребятах за эту неделю лаборатории?
В первый раз вечером я пришел на костер, и все «мерялись лопухами». Это выражение появилось у нас с Сашей Громовой, моим художником и подругой. Родилось оно у вчерашней студентки, когда мы делали спектакль, я был режиссер, она художник. Саша выстраивала на площадке декорацию, а я ей мешал: «Да, ладно, вот так нормально». И она сказала: «Борис Анатольевич, давайте не будем мериться лопухами». Саша в это время выстраивала на сцене огромные лопухи. Мы все посмеялись, мне понравилось, что она осмелела, для меня, это был ее шаг к самостоятельности. На следующий день у костра ребята были другими. На последующий день, вернее, вечер, они были, как братья и сестры, уже какие-то родные. Если раньше они из-за зажима, это бывает у нас всех, говорили-говорили ерунду-ерунду, то теперь в какие-то моменты у костра, они могли просто молчать, улыбаться друг другу и понимать без слов огромное количество смыслов, которое за день к ним то приходило, то уходило. Тогда я начал в них влюбляться, когда увидел этот тонкий момент, я сначала испугался этой некой агрессии, неявной, хотя, может быть, я придумал ее. Поэтому изменение есть, я не знаю для чего оно. Что значит изменение? Они были плохими, стали хорошими после лаборатории, конечно, нет. Они изменились по отношению друг к другу. Они, погружаясь и в воду, и огонь, преодолевая стихии и смиряясь с ними, смахнули с себя всё лишнее. Ушла пыль городская, театральная. Они стали более чистыми внутренне, потому что каждый день с головой ныряли в Его Величество Байкал, в этот океан любви и силы.
– Зачем нужны лаборатории? И чем лаборатория «Поэзия стихий» отличается от других?
Я бы мечтал о том, чтобы все кукольники нашей страны попадали в такие лаборатории, сделал бы это как одно из правил, потому что мы весь год занимаемся тем, что обслуживаем репертуар. Мы можем играть множество раз «Трех поросят», потому что они зарабатывают деньги. Репертуар – это как новогодняя кампания, когда одно и то же по тысяче раз, и каждый день нужно быть счастливым. Это тяжкий труд. И вот здесь, на таких лабораториях актеры «чистятся», выдыхают, становятся снова детьми. Это мне очень нравится, потому что кукольник должен в душе своей всегда оставаться ребенком.
– В одном интервью вы сказали, что «театр кукол позволяет шаманить». Что вы вкладываете в это действие - «шаманить»?
Я родился на берегу реки Лены. С раннего детства начал ходить в лес, вернее, тайгу со всеми ее красотами и опасностями. Нас в семье было три брата, и мы втроем уходили с ночевой на несколько дней, брали с собой еду, забирались куда-нибудь, рыбачили и приносили нашей маме рыбу, она любила ее. Принести домой рыбу было помощью, мама растила нас без отца. Помню, когда мне было 5 лет, старший брат мой быстро засыпал, а я сидел у костра, то ли я был труслив, то ли восприимчив, в это время у меня начинался театр. Из-за каждого дерева появлялись люди в капюшонах и скрывались. Если кричал козел, по горам, скалам такое эхо было, что внутри все сжималось. Так, в детстве происходило мое соприкосновение со стихиями. Потом спустя много лет я заблудился, долго бродил по тайге, разговаривал с деревьями и неподдельно просил их отпустить меня домой, потому что дома ждут.
Шаманство, как таковое, я даже близко не понимаю и не изучаю его, это тайное, сакральное. А вот в сочинительстве своем я использую ритуальные, барабанные ритмы, огонь, даже если я делаю его бутафорским, я понимаю, что это дух, сила. Мне кажется, что религия – это тоже театр, и религиозные обряды, каноны зиждутся на ритуале, действии с началом и концом – рождением и смертью. Для меня «шаманить» - это не камлание, скорее, объединение и соединение разного, отношение к стихиям, окружающему миру как к живому. Вот бурят поет о коне и степи, и песня разливается по лесу и берегу Байкала. Почему бы ему не петь с нами в показе? Пусть поет. Мне кажется, это объединение.
– Борис Анатольевич, вы на Байкале уже неделю. Сколько камней на Байкале вы насчитали?
Я какой-то период много прожил на Байкале, и был влюблен в каждый камень, и как мне показалось, я пересчитал их. Сейчас я не считал. Ия попросила найти для нее зеленый камень, я потратил 5 минут и нашел. А счетом не занимался.